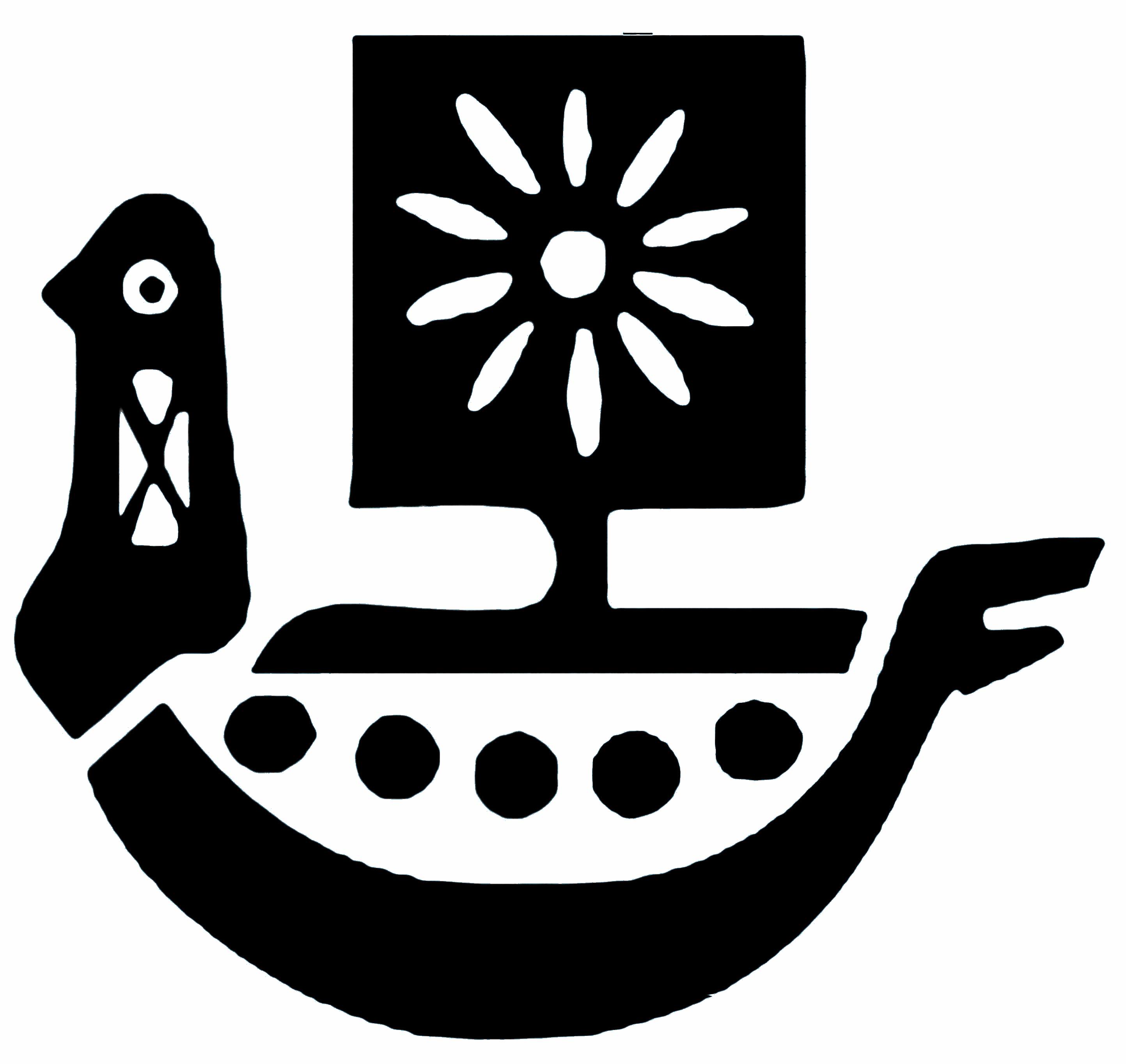Балабкин Геннадий Михайлович родился в 1944 году в г. Орша. Воспитывался в детском доме. Закончил Витебский физкультурный техникум, затем Витебский пединститут им. С. М. Кирова. Работал тренером по вольной борьбе, учителем физкультуры. Мастер спорта, многократный призёр многих соревнований. С 2012 года является членом народного литературного объединения «Наддзвінне».
Круговерть
И всё же жизнь вольётся в русло –
Она, как бурная река,
Вскипает, пенится, бушует
И разрушает берега.
Она течёт, неся с собою
Остатки прежнего дерьма.
Но эта муть осядет скоро –
И покорится свету тьма.
Сегодня всех нас закрутило
В водовороте бытия.
Кто доплывёт, а кто утонет, –
У каждого судьба своя.
Законы жизни очень строги:
В ней выживает только тот,
Кто умно жизнь умеет строить,
Законы Божии блюдёт.
Любимая пора
Люблю я пору года – лето,
Когда Земля теплом согрета,
И птичий свист весь день в лесу,
И травки нежную красу.
Вот муравьи бегут дорожкой –
Не устают у крошек ножки.
Ужонок свившийся лежит –
Его на солнышко манит.
Стрекозы носятся, сверкая,
Рыбёшки прыгают, играя,
И белка шишечку грызёт…
А соловей всю ночь поёт.
Принцессы лилии плывут –
Они нас манят и зовут.
Невольно веришь в чудеса,
Когда вокруг зовёт краса.
Вот опрокинутая ель,
Под ней лисичек карусель.
В болоте квакают лягушки,
Надулись важно, как старушки.
Малина гроздьями висит –
Рубином ягода горит.
Кругом рассыпана черника –
Не будь ленив и собери-ка!
Придёшь в дубраву – чудеса,
И разбегаются глаза:
Грибы краснеют под осиной,
Висит на ветке шар осиный.
А если далее пройти,
Лисичек можно там найти:
Они во мху стоят рядочком
Цветами жёлтыми на кочках.
Там на поляночке лесной –
Дух земляники озорной.
Мне эта ягода знакома –
Она растёт в саду у дома…
Зверюшек можно встретить здесь:
Косуль, лосей… не перечесть.
Лисёнка видел на дорожке –
Стоял он там, расставив ножки.
Я как-то ехал с горки вниз
И видел на пригорке рысь:
С рысятами она сидела
И на игру детей глядела.
О, это чудо из чудес –
Весенне-летний звонкий лес!
Я погружался в леса звоны
И был во всё кругом влюблённый.
Не убивай!..
Не убивай любовь и не топчи её –
Такое хрупкое она созданье.
Не убивай любовь, спасение своё,–
Она и есть основа мирозданья.
В потоке дней спеша, в глухие вечера,
Мы о любви высокой забываем.
Порою ту её, любили что вчера,
Мы в исступленье грязью обливаем.
И чьё-то сердце в жалобе ещё кричит.
Ты подойди и зов его послушай:
Любовь, растоптанная, в нём уже молчит.
Ведь мы унизили свои же души.
А ведь шептали раньше нежные слова,
Хотели вместе сквозь невзгоды мчаться,
От нежности кружилась голова…
И вдруг финал бессмысленный – расстаться!
Простые истины мы поздно познаём:
Любовь всегда основа мирозданья,
Любовь даётся свыше нам Самим Творцом,
Мы узнаём всё это с опозданьем…
Всё равно я буду с тобой…
Душа моя прорвётся ввысь:
К твоей душе сквозь космос устремится,
И, даже пусть и далеко,
Она с твоей душой соединится.
Пусть на Земле мы жили врозь –
Нас разлучила чья-то злая воля, –
Но знаю: в небе голубом
Никто не сможет разлучить нас боле.
Любимый май
Весна любовью одарила,
Навечно в плен меня взяла,
Лучами счастья озарила –
Тебя, любимую, дала.
Тогда так всё благоухало,
Я счастлив был в тот майский день,
Нам даже ночи не хватало:
Под утро прятались в сирень…
Ничто не вечно – знаю это, –
И убедился в этом вновь:
Прошла весна, настало лето –
И где же ты, моя любовь?
…А годы мчатся, быстротечны,
Но май лишь только настаёт,
Бегу на место первой встречи,
Где и сейчас сирень цветёт.
Вестка з таго свету
Я забіты ляжу больш паўгода:
Засакрэчана гэта вайна –
І ў душы захаваў я нязгоду…
Прывітанне, матуля мая!
Пазабілі мы ці пакалечылі
Больш мільёна людзей той зямлі,
Што яны дужа гнеўна нас стрэцілі,
Гаварылі: «Чаму вы прыйшлі?»
Чуў я, маці, што ў нас павярнулі
Руль туды, куды люд пажадаў…
Вось шкада, што больш з вамі не буду:
Аб вайне б той я вам расказаў…
А цяпер да сустрэчы, матуля,
Добрым словам мяне памяні:
Ты мяне вельмі скора убачыш –
Толькі буду я ўжо ў камяні.
Серебряный портсигар
1
Поздно вечером раздался звонок. Иванович тяжело поднялся с дивана и, шаркая ногами по полу, поспешил к двери. Уже давно к нему никто не заглядывал. Он открыл дверь и глазам своим не поверил. На пороге стоял его сынок Мишка, двадцатилетний шалопай.
– Батя, привет! Как поживаешь? Это ж сколько мы с тобой не виделись? – начал он с порога весело. – Ты извини меня, конечно, но, понимаешь… дела, работа. и тэдэ, и тэпэ…
Иванович закрыл дверь, подошёл, обнял сына, положив свою седую с залысинами голову ему на грудь, и беспомощно всхлипнул, бормоча:
– Сынок, сынуля…
– Ну, батя, это ты брось разводить воду, вспомни, каким ты был, а теперь, на тебе, распустил нюни. Лучше садись, поговорим.
– Я сейчас, я чаю... – засуетился Иванович.
– Не хочу я твоего чаю. Давай поговорим, садись. Ну, как здоровье? Шевелишься ещё?
– Да вот болею последнее время всё.
– Ну, ничего. Выглядишь ты молодцом, не горюй, всё будет нормально.
– Я сейчас, я чаю… – опять засуетился Иванович.
– Я же сказал, что не хочу, чаёв мы не употребляем.
– У меня ничего не сготовлено… Извини, сынок…
– Да я не за тем… Просто зашёл проведать тебя, посмотреть, как живёшь. А у тебя не очень, – скользнул Мишка взглядом по пустой комнате. – Так у тебя ничего и не прибавилось к старому дивану. А телевизор-то хоть работает?
– Давно уже молчит: видно, лампы сели.
– Мастера вызови, а то ты в этих стенах с ума сойдёшь один.
– Скоро, может, поправлюсь, тогда и выберусь как-нибудь.
– А я, батяня, и лекарство тебе принёс, – и Мишка вынул из кармана бутылку водки.
– Не, сынок, мне нельзя. У меня почки, печёнка больны и ещё разная холера привязалась.
– Ну, раз нельзя так нельзя, а я выпью. Где у тебя стакан?
– Я сейчас принесу.
– Сиди, я найду, а хлеб хоть у тебя есть?
– Есть, есть! Вчера ходил в магазин. И масло есть, и луковица, – опять засуетился Иванович.
– Батя, не шурши… Мне только заткнуть чего дай.
Мишка сам пошёл на кухню, принёс стакан и ломоть хлеба, налил себе:
– Ну, будь! – и осушил стакан одним махом. – А ты не будешь?
– Нет, мне нельзя. Я своё, сынок, уже отпил. И ты эту заразу бросай.
– Я не пью, это я так тебя угостить хотел.
Мишка налил себе ещё почти стакан.
– Ну, батя, за твоё здоровье! – он крякнул, понюхал хлеб и, как бы нехотя, стал жевать его.
– Ну, а как ты, сынок, поживаешь? Уже давно ты ко мне не заходил, года два как не был. Я и не знаю, как вы там.
– Да живу, батя, хлеб жую, по радио говорят, что все хорошо живут, значит, и я неплохо.
– А к матери заходишь?
– Бываю изредка. Всё как-то некогда, замотался… Ты ведь знаешь: волка ноги кормят…
Во время разговора Мишка посматривал на тумбочку, где вместе с разными лекарствами лежал серебряный портсигар. Мишка налил стакан, выпил и вытер рукавом губы.
– Я вообще-то к тебе по делу. Знаешь что, батя, давай махнёмся: я тебе свой портсигар, а ты мне этот…
Подойдя к тумбочке, Мишка взял портсигар и стал его рассматривать.
Иванович приподнялся и не мог слова вымолвить: хватал воздух ртом как рыба. Только через какую-то минуту он кое-как отошёл.
– Можешь всё забирать, а портсигар, Миша, не тронь. Ты же знаешь, что это последнее, что у меня осталось.
– Я тебе не за просто так, я тебе ведь свой отдаю, – и он вынул из кармана обыкновенный старенький потёртый портсигар.
– Нет, сынок, когда умру, тогда забирай, а сейчас не тронь, положи на место. Я тебя прошу: положи!
– Не, батя, уже замётано…
С этими словами Мишка положил портсигар в свой карман. Иванович вцепился в полу его пиджака мёртвой хваткой, но Мишка, спокойно взяв отца за руки, легко освободился от него и направился к двери.
– Ну, батя, пока. Не горюй. Ты же всё равно не куришь, а мне эта вещица весу придаст в обществе.
– Мишенька, отдай! Христом Богом молю, – прохрипел Иванович.
Но дверь уже захлопнулась с другой стороны.
2
Иванович еле дотащился до дивана, лёг и, закрыв лицо руками, долго рыдал, проклиная свою жизнь. Так лёжа, он постепенно успокоился и стал вспоминать всё с самого начала. Как так случилось, что жизнь его пошла прахом, а ведь ничто не предвещало такой позорный конец. Что он скоро наступит, старик не сомневался. Уже в больнице он узнал, что у него цирроз, ещё что-то с почками, и выписали его умирать дома, хотя знали, что ухаживать за ним некому. Иванович и не обижался. Дома ему даже лучше было, чем в больнице. Всё равно никакой действенной помощи ему там не оказывали. Если боль нельзя было перетерпеть, он звал сестру, доставал из-под подушки «рубль», и она давала ему обезболивающие таблетки, а когда «пенсионные» кончались, никого было уже не дозваться. Палата с тяжёлыми больными была переполнена. Кругом грязь, потолок и стены в трещинах и затёках. Духота неимоверная. Люди стонали, хрипели, харкали, кашляли и ругались, проклиная всё на свете: и эту жизнь, и эту больницу. По утрам заходил доктор, этакий бодрячок, всех подбадривал, обещая всех вылечить и скоро выписать, назначал процедуры, слушал, щупал, увещевал, уговаривал и уходил до следующего утра.
Назавтра всё повторялось снова, день проходил нудно и монотонно. По субботам и воскресеньям было ещё какое-то оживление, когда приходили к кому-то родственники и приносили еду, вино, а нередко и что-нибудь покрепче. Иногда перепадало и Ивановичу. Тогда он долго благодарил, говоря, что скоро и к нему придёт сынок и старик обязательно угостит соседа за его доброту. Но шли дни, а к нему так никто и не приходил. Он лежал уже второй месяц и чувствовал, что силы его на исходе. Иванович понял, что наступает и его «очередь», как уже тех многих, кто лежал в этой палате. В больнице всегда нужны были койко-места, а старик всем назло не хотел умирать. Тогда его взяли и выписали как выздоравливающего, благо он ещё мог кое-как передвигаться. Дома он ещё тянул и то благодаря женщине, тоже одинокой и больной, которая убирала в доме, что-нибудь стряпала. Он помогал ей и всё рассказывал, какой у него хороший и красивый сынок, что он придёт и обязательно поможет ему: купит импортных лекарств, сводит к хорошему доктору. Но проходили дни, а сынок так и не приходил. А здесь, на тебе, пришёл навестить и…
Иванович помнит, что, когда он был ещё маленький, мать часто доставала из старого ридикюля серебряный, дорогой для неё, портсигар. Она гладила его, разговаривала с ним, как будто он был для неё живой. Мать рассказывала детям, как во время войны взвод отца первым зацепился за вражеский берег и удерживал его до подхода основных сил, и как генерал вместе с орденом вручил ему потом свой серебряный портсигар. Отец вернулся с войны весь израненный, почти всё время лечился в госпиталях – и так до сорок седьмого года, пока не умер. Вот так и осталась в семье эта самая дорогая реликвия...
Иванович по порядку начал вспоминать свою неудавшуюся
жизнь…
3
Он помнил, как трудно жилось их семье в то голодное послевоенное время. Ведь кроме него у матери были ещё и две дочери. За отца платили мизерную пенсию, а, работая санитаркой в больнице, мать получала крохи. Она с горем пополам всё-таки умудрялась прокормить троих детей и себя. Но как бы тогда трудно ни было, Гришка не унывал, так звали Ивановича. Он целыми днями пропадал в лесу с ребятами, собирая патроны, порох. Потом мальчишки устраивали фейерверки, стреляли из самопалов. Летом почти каждый день они ходили на речку ловить рыбу, купались, загорали и играли в разные игры. Вечером бегали на «пятачок», где старшие парни и девушки танцевали под гармошку. Гришка везде успевал и часто бегал в военный городок на просмотр фильмов. Ещё он бывал на товарной станции, забираясь к солдатам в теплушки, и они угощали его вкусной кашей. А товарняки всё шли и шли с запада – то солдаты возвращались домой…
Гришка с матерью и двумя сёстрами жил в коммунальной квартире. В маленькой комнате, кроме двух кроватей и стола, никакой мебели не было. Её и не требовалось: положить туда было нечего. Почти вся одежда и бельё находились на самих обитателях. Мать, сколько он помнит, всё время работала то в больнице, то по дому, то на огороде. Летом Гришка ездил в деревню к бабушке и дедушке, помогая им в заготовке дров и сена для коровы. Лишь с наступлением холодов он являлся в школу. Уроки почти никогда не делал: что запомнит с урока, то и хорошо. Зимой он носился по горкам на лыжах, играл на болоте в хоккей, катался на коньках, а по воскресеньям обязательно ходил в клуб смотреть новый кинофильм.
Зимними вечерами обычно все были в сборе. Мать затапливала печь, пекла драники, а Гришка садился поближе к духовке, чтобы согреть замёрзшие ноги. Плита раскалялась докрасна, и в комнате становилось так тепло и уютно, что Гришке казалось, что нигде лучше, чем здесь у духовки, и нет на свете… Иногда к сестре приходили подруги, секретничали и распевали свои девичьи песни. Часто приходили подруги и к матери: вспоминали довоенное время, когда они ещё были девушками, вспоминали своих мужей, как жили до войны, делились заботами. Иногда приносили кусочек сала или что-нибудь ещё. Сколько Гришка помнит, мать то одалживала деньги, то отдавала их. Самым большим праздником было для семьи, когда ожидалось понижение цен. Тогда у «тарелки» репродуктора собиралась вся семья и с замиранием все слушали торжественный голос диктора, а потом долго обсуждали, на сколько и что подешевело, тихо радовались. Подруги говорили между собой, что не зря они как неприкаянные работают всю жизнь и что даже, если они не доживут до хорошей жизни, то дети их обязательно будут жить хорошо. И счастьем светились их лица, как будто и не было этой тяжёлой и горькой жизни…
Был в семье ещё один праздник – Пасха. Мать с утра, когда все ещё спали, пекла пирог и красила яйца. Дети вставали и видели на столе миску, полную красных яиц, а на чистом полотенце – пирог. Вот это был настоящий праздник! Все садились за стол. Мать доставала из духовки тушёное мясо и «бабку» – начинался пир на весь мир. Потом насытившийся Гришка выходил на улицу, где его поджидали друзья, и начинался в это солнечное обычно утро настоящий бой: кто у кого выиграет яйцо. Часто всё кончалось дракой. Потом все мирились и начинали играть в какую-нибудь игру, забывая о синяках и ушибах…
4
В школе Гришка был как какой-то демон: ему вечно не сиделось на месте, и почти каждую перемену он бывал в учительской. А что он вытворял на переменах! Особенно от него страдали учителя точных наук, но абсолютно другим учеником он был на гуманитарных уроках. Это был совсем иной человек, словно его подменяли. Директор, историк, однажды присутствующий на уроке математики, когда Гришку вызвали к доске, стал ему объяснять и разжёвывать, что такое дроби «и с чем их едят», но Гришка при этом молчал как воды в рот набрал. Директор подумал, что после его объяснения Гришка, как и на истории, начнёт увлечённо рассказывать и объяснять математические ребусы и что все в классе притихнут и будут слушать его, раскрыв рты. Этого не случилось, и директор, разочарованный, сел на своё место, не задавая ему больше никаких вопросов. Так и пришлось Гришке остаться в шестом классе на второй год.
Самой большой страстью его было чтение книг. Он ещё со второго класса был записан в школьной библиотеке. Брал сначала сказки, потом фантастику, про войну, про шпионов…. Его старшие сёстры тоже были записаны в библиотеке, так он успевал прочитать и их книги…
Ничто съестное в огородах и садах не укрывалось от зорких Гришкиных глаз и его босоногой команды, с которой он делал на них опустошительные набеги….
Летом в лесу бывали маёвки. Приезжали буфеты, играли оркестры, выступали с художественной самодеятельностью, а вечером девушки в ярких платьях гуляли с парнями: в их юные сердца стучалась первая любовь. Она коснулась и Гришки.
Как-то в их класс пришла новенькая девочка, аккуратная и строгая, ничем не привлекательная. Но Гришка постепенно стал ловить себя на том, что всё время думает о ней. Он хотел всё чаще и чаще видеть её, слышать её голос, но она ничего не знала об этом и его не замечала. Он не смел ей и слова сказать. Гришка не знал, что с ним такое происходит и почему ему так радостно на душе. Наступившее лето оказалось самым длинным, и он с нетерпением ждал начала учебного года. У него как бы пелена слетела с глаз. Он вдруг осознал себя в этой жизни. Он понял, что надо бороться за справедливость и правду, за лучшую жизнь. Нужно учиться и помогать в этом товарищам своим. Нужно кончать с разгильдяйством и вести себя образцово.
Первого сентября он пришёл в школу, но не в седьмой класс, а в шестой. Гришку, второгодника, утешало лишь то, что с ним остались на второй год ещё восемь его одноклассников. И первое, к чему он приступил, – это наведение порядка на уроках. Строптивых и неисправимых он убеждал подзатыльниками. Но самое главное, что он сам сидел на уроках тихо и спокойно. Учителя удивлялись, что это с ним произошло и, что самое удивительное, так это то, что он даже по точным наукам стал получать хорошие отметки. Каждую перемену он выходил на школьный двор и наблюдал за ней, Настей: как она задорно и весело играет с девочками. Теперь, куда бы он ни шёл, где бы он ни был, всюду перед его глазами была она, его маленькая принцесса. Жизнь ему грезилась голубая, безоблачная, радостная. И готов он был всем страждущим в этом мире помогать, чтобы всем было тоже радостно и хорошо. Первая любовь звала его на добрые дела. Сам плохо ещё разбираясь в точных науках, он помогал своим отстающим друзьям. Организовал классную библиотечку для обмена книгами, участвовал активно в художественной самодеятельности. А весной Гришку приняли в комсомол, хотя он не был пионером. Все дружно проголосовали за него, и только в горкоме недружелюбно посмотрели на Гришку, задали ряд каверзных вопросов, на которые он легко ответил, и вручили ему билет. Так началась его комсомольская жизнь, вся в делах и заботах. Школьники организовали комсомольский патруль, дежурили по вечерам в своём районе, успокаивая пьяниц и хулиганов. Они выступали с выездными концертами, ходили по домам, помогая пожилым людям по хозяйству, выступали на городских соревнованиях за школу, в которой комсомольцы навели порядок, хотя их было чуть больше десятка. И ещё много разных и хороших дел успевали они делать. Но его такая бурная и радостная жизнь омрачилась тем, что нужно было ещё год учиться в «семилетке», а Настя уже перешла в «десятилетку», в восьмой класс. А ведь Гришка думал, что она всегда будет рядом и он будет любоваться ею, слышать её голос. В своих мальчишеских грёзах он часто представлял, как спасает её тонущую, или выносит из горящей избы, или отбивает от хулиганов. Гришке плохо спалось, и во сне он часто повторял её имя. Гришка целыми днями чувствовал себя не в своей тарелке, стеснялся признаваться Насте в своих чувствах.
5
Но вот Гришка закончил семилетку. Перед ним открылась дорога в самостоятельную жизнь. И, чтобы не обременять мать, он не пошёл в восьмой класс, а поступил в ремесленное училище. Теперь он жил в общежитии и на всём государственном обеспечении. В училище «старики» обижали и притесняли первогодников, отбирая у них деньги и частенько избивая. Гришку всё это возмущало, и, чтобы дать отпор негодяям, он и ещё несколько ребят из его группы записались в секцию бокса. Через некоторое время их группу никто не смел и пальцем тронуть. Гришку выбрали комсоргом, и он помогал мастеру, разъясняя лодырям и нерадивым, что нужно хорошо овладеть специальностью, чтобы приносить пользу в дальнейшем себе и государству. Во всех трудовых делах он был примером для ребят, будь то работа в колхозе или на субботниках. Он был всегда первым и увлекал за собой остальных. В училище были и девушки, которые засматривались на него, пытались с ним заигрывать. Они приглашали его в кино или на танцы, но Гришка никак не отвечал на всё это, не реагируя на заигрывания. Он мечтал, что когда закончит училище и будет работать, то добьётся, что у него будет своя квартира и он сможет привести в неё Настю. И они будут долго-долго жить, радуясь и любя друг друга.
6
Через два года Гришка закончил учёбу, и направили парня работать на завод. Поставили его за старый станок и велели изготавлять какие-то несложные детали. Гришка как ни старался, а больше трёх рублей в день никак заработать не мог. Он пошёл в заводской комитет комсомола объяснить ситуацию, что молодёжь работает на допотопных станках, что расценки низкие, а сложной работы им не доверяют, и что прожить на такую зарплату трудновато. Секретарь посмотрел на него, как на чудо, и ответил ему, что если бы он такое сказал ещё года два-три назад, то ему не поздоровилось бы: вместо того, чтобы доказать верность партии и народу своим ударным трудом, он, комсомолец, разводит демагогию и льёт воду на мельницу мирового империализма. Ему было приказано идти и работать, а если он будет заниматься демагогией, то будет поставлен вопрос о его пребывании в комсомоле и на заводе…
Гришка стал работать усерднее: оставался после смены и в субботние дни, но больше сотни рублей в месяц заработать не мог. А ему так хотелось помочь матери, купить себе костюм, приехать домой, повстречать Её и пригласить в кинотеатр!!! Но кроме серого пиджака, купленного на толкучке, и брюк за пятнадцать рублей, он ничего не смог себе приобрести. И Гришка понял, как тяжело быть взрослым…
7
Не успел парень проработать год, как пришла ему повестка в армию, о которой у него ещё с детства были радужные планы. Гришка представлял себе, как он проявит такие способности, что в рядовых долго не задержится и будет в будущем командовать взводом, ротой, батальоном, полком, дивизией, а может быть, даже возглавит и всю советскую армию. Теперь он, конечно, понимал, что маршальского жезла ему не видать, но если он постарается, то сможет быть не последним солдатом…
Прощального вечера как такового не было. Последнюю зарплату он отдал матери. Просто принесли водку, все выпили, закусили, чем было, и друзья проводили Гришку на поезд. В вагоне стоял дым «коромыслом», ехали служить призывники…
В воинской части новобранцев построили, потом повели мыть, стричь, переодели в солдатскую форму. После месячного карантина определили всех по ротам. Гришка попал в сапёрную роту, и начались для него солдатские будни: подъёмы, тревоги, кроссы, учения, муштра на плацу и сержантские придирки…
Наступил день, когда все Гришкины представления об армии полностью перевернулись с ног на голову. Однажды после отбоя не успел он ещё и заснуть, как кто-то сорвал с него одеяло и прокричал: «Подъём!!!» Гришка, ничего не соображая, вскочил, протирая глаза, думая, что это настоящая тревога. Старослужащие всех новеньких стали выводить в ленкомнату. Салажат в их роте оказалось восемь человек. Их, в одних кальсонах, построили в шеренгу. Комната была битком набита старослужащими, которые ухмылялись, загадочно улыбались, поглядывая на новеньких, предвкушая забавное представление. Вперёд вышел сержант, одетый под «звездочёта», и стал зачитывать присягу молодого бойца, переделанную на восточный манер, с юмором. Приказ гласил, что молодые бойцы должны принять присягу в виде десяти ударов ремнём по оголённому заду, «кабы знали своё место, почитали старослужащих и выполняли их волю незамедлительно». Приказ, мол, издал такой-то «шахиншах», а толмач перевёл его молодым несмышлёнышам. По фамилиям указывалось в списке, кто обязательно сегодня в ноль часов 40 минут примет данную присягу. Гришка в списке оказался последним…
Началась экзекуция.
Молодой солдат ложился сам на стол: в присяге было оговорено, что за сопротивление прибавляется пять ударов. Потому большинство салажат ложились сами, и палач с закатанными рукавами равномерно наносил удары. После избиения некоторые новобранцы, не выдержав, плакали от боли и обиды. Когда очередь дошла до Гришки, он добровольно и не подумал ложиться, а просто заявил тем, кто его держал, что, когда они будут с ним в карауле, а ему выдадут шестьдесят боевых патронов, он все эти патроны выпустит в них, если они его сейчас не отпустят. И вдруг он почувствовал, что руки, его держащие, разжались и все отступились от него как от прокажённого. Все старослужащие вдруг замерли в каком-то оцепенении, а потом сразу закричали: стали поносить Гришку разными словами, оскорблять. Но никто не посмел прикоснуться к нему. А он ещё добавил, что если ему вдруг сделают «тёмную» и не убьют его, то приговор для старослужащих останется в силе. Сказав это, он под ругань их и крики пошёл досыпать…
С тех пор его никто даже пальцем не трогал, но службу теперь Гришка видел без розовых очков. Он старался служить честно, думая, что будет замечено его старание. Но от старшины он получал лишь одни наряды вне очереди. Офицерам и дела не было до него, они не вмешивались в дела старшины и сержантов, полностью им доверяя и почти никогда не прислушиваясь к доводам и просьбам рядового состава. Особенно усилились придирки сержантов после той злополучной ночи. Дни превратились в кошмар какой-то. Наряды вне очереди сыпались как из рога изобилия. И Гришка поубавил старание своё. Постепенно убивали в нём самое дорогое и хорошее, к чему он так страстно и яростно стремился. Однажды сержант приказал Гришке перемыть казарму заново, но Гришкина горячая натура не выдержала на этот раз: он врезал ему как следует. Что здесь началось!.. Гришку вызвали к командиру роты, грозили трибуналом и ещё многими карами. Наконец, определили его на гауптвахту на десять суток. Он впервые оказался в камере как преступник. Пробыв там часа два-три, он начал маяться. Оказалось, что нет злейшего страдания, когда нет возможности что-то делать. Только на другой день его вывели на работу. После отсидки он уже числился как нерадивый солдат. В увольнение его теперь не пускали, а об отпуске ему и мечтать не приходилось. Комсомольские собрания проводились редко и не решали тех вопросов, которые накапливались у солдат. И Гришка затосковал. Даже были моменты, что ему не хотелось жить, и он ждал дембеля как манны небесной, считая каждый прожитый день. Не смог почувствовать он за всю службу, что это та Красная армия, армия братьев по оружию, о которой он мечтал в детстве. Да и что это за армия, если перед приездом какого-нибудь генерала нужно было перед штабом и столовой красить пожухлую осеннюю траву в зелёненький цвет. Кругом и всюду просматривалась показуха. Выполнялась масса тупой и никому не нужной работы. Но теплилась надежда у Гришки, что такие порядки происходят только в их отдалённом гарнизоне и может, где-то там хорошо, как надо быть, и вера в хорошее опять возвращалась к нему. Казалось, что новый вождь приведёт страну в ближайшее время в то светлое завтра, где люди будут все как братья, что не будет ни горя, ни вранья, ни подлости, что совсем скоро все будут жить по чести, по совести и наступит во всём изобилие. Люди из-за куска хлеба не будут рвать друг другу горло…
8
Наконец наступил день дембеля. Три года прошло в стенах мрачных казарм, муштры и окриков. Теперь он свободен!
Приехав домой, Гришка пошёл на свой завод и начал трудиться с большим усердием. Он поступил в вечернюю школу, ибо понял, что без образования трудно завоевать место в жизни. Теперь он получал 120-130 рублей в месяц, но этих денег еле хватало до следующей получки. На питание и одежду уходили все деньги, а ещё матери нужно было выслать. По выходным дням он с друзьями ходил на танцы, для смелости распивали бутылку вина. Потом провожали девушек и долго целовали их в подъездах. Иногда друзья по комнате приводили более податливых девчат в общежитие, посылая в это время Гришку в кино или погулять. Они смеялись над его целомудренностью, рассказывая ему всякие гадости о девушках. Он набрасывался на них с кулаками, но друзья быстро его успокаивали. На заводе тоже творилось что-то неладное. Перед праздниками устраивались пьянки, а потом и просто так – в будни. Часто можно было встретить в цеху выпившего или вовсе пьяного работника. Гришка задумался, почему так происходит, и пришёл к выводу, что, очевидно, из-за того, что в начале месяца работы почти не бывает и люди маятся. В цехах грязь, пыль, духота, загазованность и страшная бесхозяйственность. Лишь небольшая часть высококвалифицированных рабочих получает божескую зарплату, а остальные, особенно молодёжь, – мизерную. Притом все воруют всё, что плохо лежит: будь то инструменты или даже моток проволоки. Да и почти каждый считал для себя зазорным, если, идя с работы, не прихватит с собой что-нибудь. «На работе ты не гость и тащи хотя бы гвоздь», – бытовала расхожая поговорка…
Гришка пошёл в партком и обо всём рассказал секретарю, мол, нужно новое оборудование, бесперебойные поставки заготовок, что молодёжи надо доверять и более сложную работу, улучшить условия труда. Вот тогда, может, и уменьшатся пьянки, воровство и укрепится трудовая дисциплина. А ещё Гришка вспомнил и себя, спросив секретаря, почему, когда он в прошлом месяце перевыполнил норму, ему заплатили сполна, а в этом – пришла нормировщица и расценки срезала. Секретарь сказал ему, чтобы он не совал нос в дела администрации и что партия не таких, как он, ставила на своё место и перед ними не отчитывалась. Без него знают, как исправить и улучшить положение. А тем, кто только ищет выгоду для себя, не место в их коллективе. Гришка об этом разговоре рассказал своим друзьям по комнате, и они долго над ним смеялись, говоря ему, что не он первый правдолюбец такой, но воз и ныне там. Начальство получает свой неплохой оклад и плюс большие премиальные, а до остальных им дела нет. Работяга же сдельно вкалывает и никак не может заработать свои две-три сотни. «Так что плюнь, – советовали друзья, – и делай своё дело, иначе тебе не сдобровать». Гришку удивило и полное бездействие на заводе комитета комсомола. Проведут собрание для «галочки», примут новых комсомольцев – вот и вся работа. Он ещё помнил, как в их маленькой школе бурлила комсомольская жизнь. А здесь – апатия, безразличие. Может, это всё потому, что на словах говорили одно, а на деле получалось совсем другое? Враньём были покрыты все дела. Не чувствовал молодой рабочий себя хозяином на заводе. Что из конторы прикажут, то и выполнялось, а с мнением рядового рабочего редко считались. Не было справедливости в распределении жилья и путёвок в санатории. Это всё в первую очередь получало начальство, а работягам – что останется. Люди всё это видели и судачили между собой, как живёт и отдыхает начальство…
Во время своего первого отпуска Гришка решил увидеть Настю и поговорить с ней, чтобы она знала, как он её любит и хочет быть с ней всегда. Он до того осмелел, что пошёл к ней домой, но в квартире её не оказалось. Женщина во дворе объяснила ему, что мать её на работе, а она после иститута вышла замуж и живёт со своим мужем в другом городе. Гришку как обухом по голове ударили: он шёл домой как в тумане, опустошённый и растерянный. Все машины от него шарахались в сторону. У него и в мыслях не было, что его любовь будет с другим. Он думал, что она предназначена в этом мире только ему, а тут, на тебе, – замужем. Гришка казнил себя за свою стеснительность, что не смог раньше объясниться с ней. Может быть, всё повернулось бы по-другому. Он не знал, что теперь делать, как быть: жизнь, такая голубая и радостная ещё вчера, вдруг потеряла для него всякий смысл. У него было такое ощущение, как будто он умер. Придя в общежитие, он рассказал дружкам о своём горе. Кто-то мигом сбегал за вином, кто-то позвонил девчонкам – и пошла пирушка вовсю. Танцевали под старый магнитофон, и одна из девушек, назвавшись Леной, прильнула к Гришке. Нагулявшись, ребята ушли, оставив пару наедине...
Только под утро он и она объяснились, и девушк